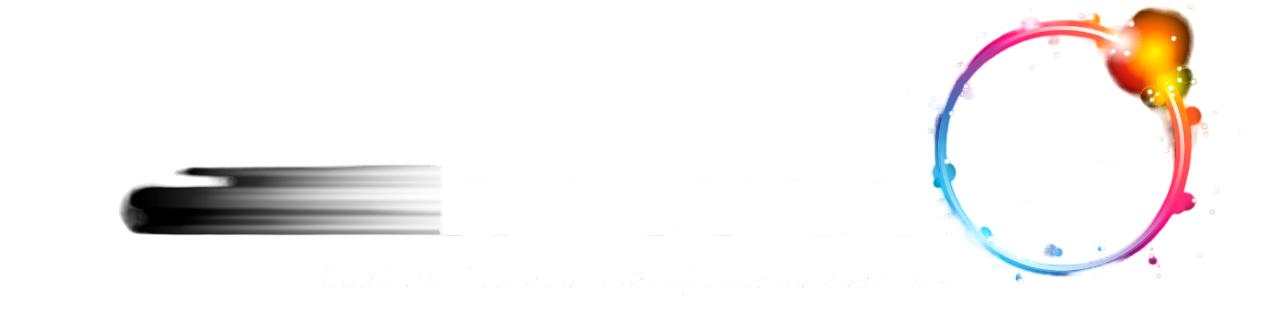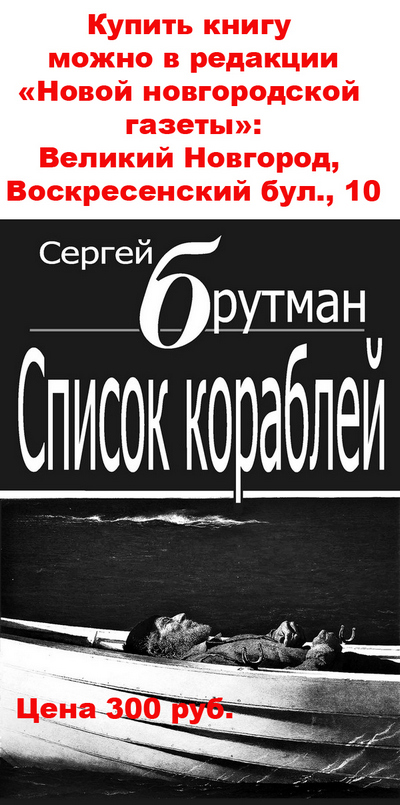По дрова

Мне не нравилось бегать на длинные дистанции, а сержанту – смотреть, как я это делаю. Тут наметилось что-то вроде консенсуса. Горбачёв был прав: хорошая это штука. Благодаря ей я получил тёплое место истопника.
Истопник не ходил со всеми на утреннюю зарядку и на утренний осмотр сапог и подворотничков. В это время он исполнял обязанности цивилизации. До наших казарм она уже дотянулась – гнутыми трубами парового отопления. А вот в учебных классах полка ещё царил девятнадцатый век: там стояли круглые печуры, окованные жестью.
Истопников назначали парами. В пару ко мне назначили Брезгина.
Фамилия была ему к лицу – к брюзгливому, унылому круглому лицу с пухлыми, по старушечьи поджимаемыми губами.
Кругл был он весь, ничто не нарушало циркульной правильности: шеи у Брезгина не было. И похож он был на народную еду картошку.
На загляденье получилась из нас пара: толстый и тонкий.
Я слышал, как в курилке сержант объяснял старшине свой выбор:
- А на что ещё эта интеллигенция?
Похожий на простецкую картофелину, Брезгин происходил, однако, из учительской семьи и хотел стать физиком, или философом, или врачом.
Пока он обстоятельно разбирался в этих противоречиях, государство его опередило и обуло в сапоги.
Но он не бросил привычку сначала всё подолгу обдумывать. Идеальный напарник для такого, как я.
А вот почему сержант определил в интеллигенты меня – спрашивайте у него.
Дровяник далеко: в конце белой дороги, в белом поле.
Звёзды колки; мы идём, обтираясь плечом о плечо: нам кажется, что так теплее.
Утренние вьюги – злее дневных, мы перестраиваемся: один налегает грудью на метель, пробивает дорогу в свежем заносе, другой ступает след в след. Я пытаюсь курить, укрываясь за спиной Брезгина, но ветер срывает искры с сигаретки и скуривает её вместо меня.
«Давай сменю!» – кричу я и хлопаю Брезгина по плечу: уши шапки опущены и завязаны, он может не услышать. Я обгоняю его, метель хлещет теперь в мои лёгкие – хлещет, как море в открытые кингстоны; в бронхах кружатся нетающие снежинки. Ладно, - думаю я, - зато обратно ветер будет в спину; хуже, когда наоборот; туда-то - что, туда мы налегке…
Брезгин хлопает меня по плечу: предлагает сменить.
Брезгин ещё короче меня - мне не спрятаться за его спиной. Брезгин шире меня – ему не спрятаться за моей спиной. Но мы чувствуем, что меняться – это правильно.
Когда мы первый раз вывалились из парового тепла в первобытный холод и мрак и пробились к дровяному сараю нашей роты, Брезгин - голосом, хриплым от долгого молчания, - с надеждой спросил:
- Слушай, а ты печь когда-нибудь топил?
Собственно, об этом же хотел спросить и я, да постеснялся.
Брезгин расколол половицу в классе, я засадил под ноготь щепку, но справились мы довольно быстро. Даже на завтрак успели.
- А кто у печки? – заорал сержант, увидев нас. – Один должен следить за огнём!
И мы стали ходить в столовую поодиночке.
Истопник имел право передвигаться вне строя: интеллигентная должность.
Кто служил – поймёт, как много это значит: вне строя.
С Брезгиным мы быстро сдружились. А враждовали мы – с амбарным замком. Мы его и о дверь дровяника колотили, и дышали на него, и по-доброму разговаривать с ним пытались, но он, снегом залепленный, заледенелый, ключ выплёвывал, а вставишь – не провернёшь. Надо было что-то придумать.
В первый раз мы тащили дрова в охапке или как младенца, роняя поленья с немеющей руки. Потом догадались снимать ремень и делать вязанку.
Вот и к замку догадались приладить кусок шины – чтобы скважину не заметало.
- Смотри-ка, бля, - хмыкнул старшина. - Сообразили, нах!
Вообще-то сообразить полагалось ему. Но было приятно.
Грохнешь ледяные поленья о железный лист перед топкой. Надерёшь скрюченными пальцами бересты. Вытащишь из тайника нащепленных впрок лучин. Дождёшься, пока потянет горьким запахом тепла. И начинаются самые лучшие минуты казённого дня: это когда мы, багроволицые в зареве, сочащемся из топки в тёмный класс, пытаемся раскурить оттаивающие сигареты, пускаем в топку розовый дым и оттаиваем сами, медленно расправляем пальцы и вполголоса разговариваем – о бабах и о книгах.
О бабах получалось коротко и плохо. Так что мы больше - о книгах.
Только одно могло быть приятней: загрохочут в коридоре сапоги, и в клубах морозного пара ввалится наш взвод и кинется по-щенячьи под горячий печкин бок, восхищённо охая. И мы с Брезгиным переглянемся: это мы, мы, это благодаря нам!
Расспросив о наших морозах, сибиряки смеялись. Столкнувшись с нашими сырыми морозами – плакали.
Сибиряк Брезгин простудился. Он сидел в медсанчасти на койке, круглый и горячий, как наша печка. «Как же ты один?» – с ужасом спросил Брезгин, еле ворочая шершавым языком.
Я хлопнул его по плечу.
Я сделал две ходки вместо одной - против ветра, через сугробы. Я успел.
Я просил взвод захватить мне из столовой хотя бы булку с маслом и рафинадом. Масло они по пути уполовинили, сахару принесли всего один кусок, но я был готов к этому и не обиделся. Раз так заведено - пусть.
Может быть, самое важное в жизни я сделал тогда, сорок лет назад.
Когда людям холодно, кто-то должен выйти в метель и принести дров, и развести огонь, и следить за огнём.
И вы наверняка тоже знаете – кто этот «кто-то».
А на что ещё эта интеллигенция?