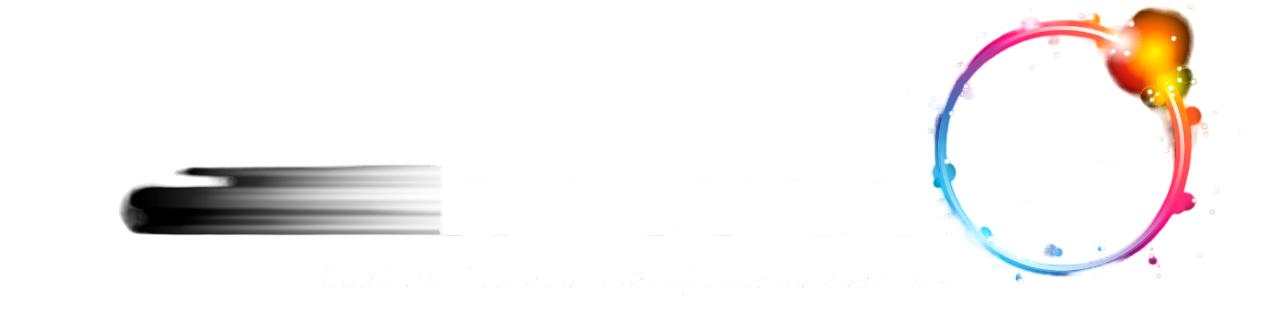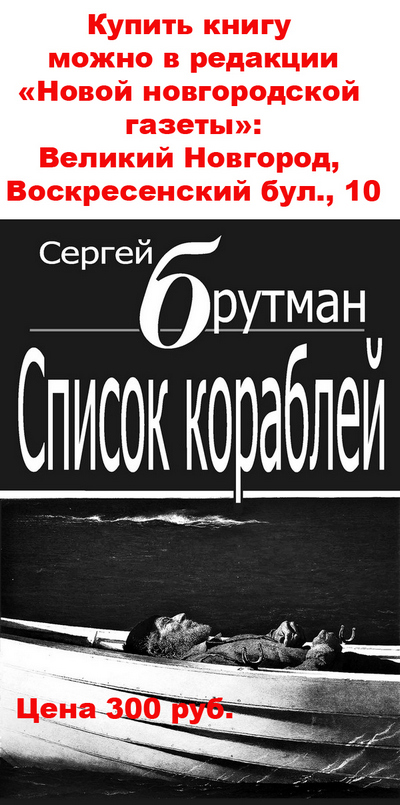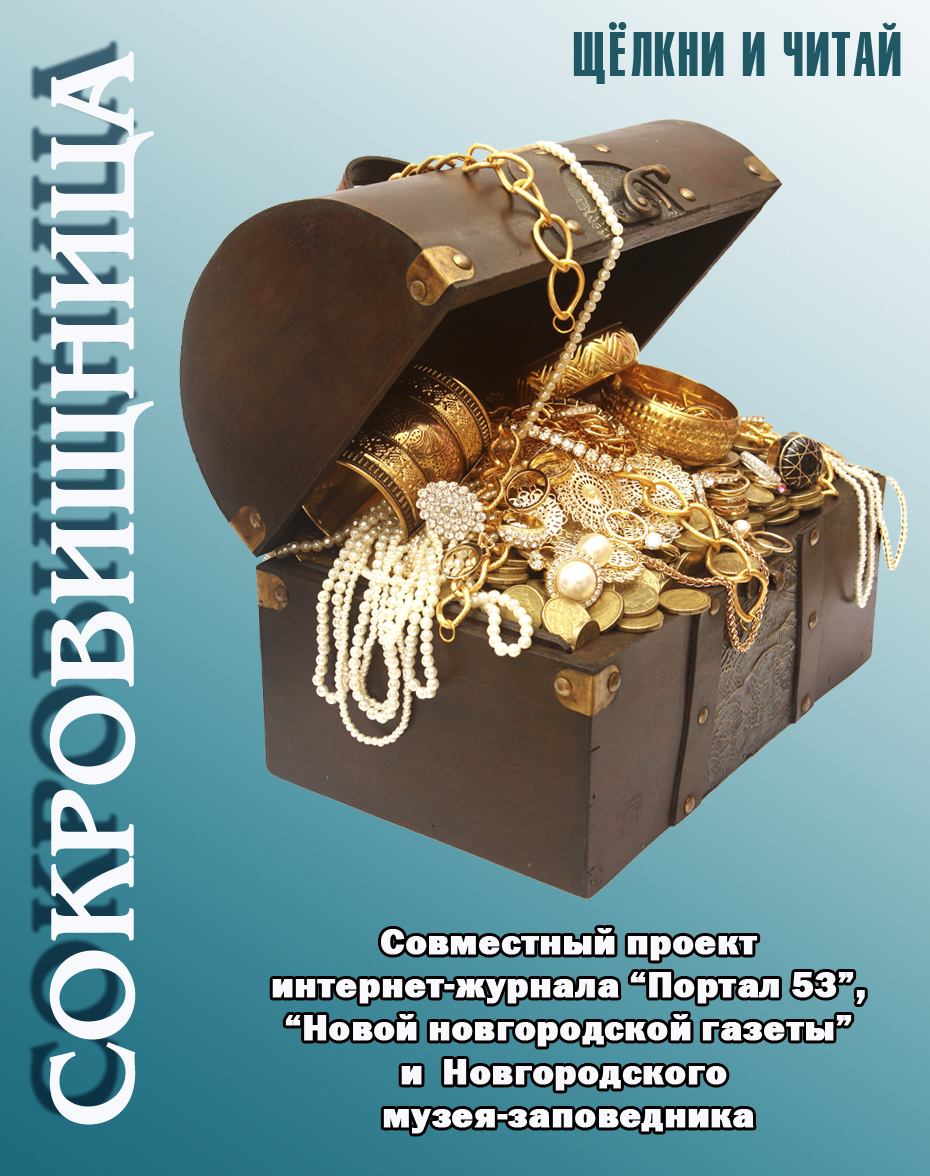Воскресное чтение: 13 листков из полевой сумки

Обладать собраниями сочинений читатели считали не столько удобным, сколько престижным. Писатели – тоже. Всех устраивала монументальность многотомника в хороших корочках. Хотя она и была сродни монументальности обелиска.
Даже живые писатели мечтали о надгробии – с гладко-эмалевой фотографией автора и эпитафией, высеченной автором предисловия.
Для меня первым «собранием» оказалось гайдаровское. Четыре нетолстых тома 64-го года.
В разные годы они бывали разными. Синими, например. Но издание 64-го, по-моему, лучшее – у него обложка цвета хаки. Горячий песок и пыльная зелень войны: защитный, солдатский цвет. Гайдару понравилось бы.
 Всю жизнь Гайдар стремился не расставаться с гимнастёркой, кубанкой и полевой сумкой. Так военные люди любят щегольски одеться в гражданское, а лишившись формы, тоскуют по целесообразности плащ-палатки и скрипу портупеи. Гайдара лишили формы, лишили права стоять в строю: травматический невроз после контузии.
Всю жизнь Гайдар стремился не расставаться с гимнастёркой, кубанкой и полевой сумкой. Так военные люди любят щегольски одеться в гражданское, а лишившись формы, тоскуют по целесообразности плащ-палатки и скрипу портупеи. Гайдара лишили формы, лишили права стоять в строю: травматический невроз после контузии.
Светлая улыбка на округлом (как у внука, Егора) лице, будто бы лоснящемся от благополучия – прообраз гагаринской улыбки – не должна вас обманывать. Гагарин некосмической эпохи знал и боль, и чёрную меланхолию.
Тоска неврозов не лечит – тоска по мечте, от которой тебя оторвали, по пампасам и ружью «монтекристо», по дальним странам, в которые поезда проносились мимо арзамасских окон… Нормальный 13-летний мальчишка бредил опасными приключениями, как все лопоухие - от ношения форменных фуражек - Монтигомо и Кожаные Чулки русской провинции. Самая правдоподобная версия происхождения его псевдонима такая: Г(оликов)А(ркади)Й Д’Ар(замас).
Угадайте, чем занимался Д’Арзамас – уже вхожий в большевистские собрания (но и посещающий митинги эсеров) – в среду 25 октября (7 ноября) 1917 года?
«Меня и Шнырова директор заметил, когда мы дрались на палках», – записал Аркадий в дневнике. Он пошёл бы за любым, кто предложит ему игру в военную тайну – а в перспективе и винтовку (кстати, в стрельбе по голубям Монтигомо не слишком преуспевал). Первыми предложили большевики.
Но НЭП и сталинская бюрократия не могли увлечь невзрослеющего бойскаута. Ключевыми словами для него были – гордый, дружба, любовь: ценности общечеловеческие, не подлежащие поверке аршином рынка или парткомиссии. Его «Судьба барабанщика» читается сегодня как вызов вакханалии предательства и доносительства. Его книги – включая «Тимура» - встречались чиновниками, «крапивным семенем» Советской России, в штыки.
Гайдар был очень советским – и очень несоветским писателем.
Но тогда это меня, конечно, не волновало. Главное, что я понял, - он был писателем.
Единственный признак настоящей литературы - интонация рассказчика.
Например, А. Иванова от В. Проскурина не отличишь, попробовав на зуб одну фразу. Их монетки одинаковы. И одинаково фальшивы. Одним голосом говорили многие хорошие писатели-фронтовики. В манную кашу слепились многочисленные Осеевы и Корольковы детской литературы.
Голос Гайдара – исключителен.
Спародировать его нетрудно. Но он начинает звучать, как неполновесная монета.
«Глубоко за полночь с огромным удовольствием читал строка по строке и учился страшному, простому мастерству Гоголя». Это из письма Гайдара. Писано было в 1935 году, когда учиться заново Гайдару, кажется, было уже и ни к чему. Только мастер сможет так сформулировать: «страшное, простое мастерство».
Трудно понять алхимию превращения Гайдара бледных автобиографических повестей - в автора «Чука и Гека» и «Судьбы барабанщика». Скорее всего, это было не превращение, а возвращение. Ту же интонацию хранят его личные письма.
Друзья вспоминали, что свои тексты Гайдар читал им наизусть – как поэты читают стихи. Конечно, если долго переписывать каждую фразу, запомнишь и прозу, но вряд ли сможешь рассказывать её, как рассказываешь о сорвавшемся с крючка окуне; надо, чтобы интонация текста была твоей, естественной. Как у Окуджавы: «каждый пишет… как он дышит». Значит, Гайдар так и дышал:
«- А давай-ка, Светлана, надень своё розовое платье. Возьмём мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твоё яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдём из этого дома куда глаза глядят.
Подумала Светлана и спрашивает:
- А куда твои глаза глядят?
- А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту жёлтую поляну, где пасётся хозяйская корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе берёзовая роща. А что там, за горой, уж этого я и сам не знаю.
- Ладно, - согласилась Светлана, - возьмём и хлеб, и яблоко, и табак, а только захвати ты с собой ещё толстую палку, потому что где-то в той стороне живёт ужасная собака Полкан. И говорили мне про неё мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела».
Попробуйте заменить здесь точку на запятую и наоборот, поменять слова местами. И вы увидите, что всё обаяние этого разговора, где голоса взрослого и ребёнка неотличимы от третьего голоса, голоса самой Природы, - увянет. Рискните выбросить прилагательные – и это будет другой пруд, другая мельница, жар и прохлада покинут распахнутый перед вами мир, он станет бумажным и плоским.

Таково собственное «страшное, простое мастерство» Гайдара.
Эта интонация полна детского удивления перед жизнью и особой детской мудрости, которую большинство со временем теряет. Тот, кто не теряет этих удивительных свойств с возрастом, может считаться мудрейшим из мудрецов – таким, чья мудрость не досаждает даже детям с их чувствительностью к фальши и скуке, а увлекательна для них.
У писателей, современных Гайдару, в ходу была стилизация строя речи. Кто рядился в крестьянина, кто – в мещанина. Некоторым удавались удивительные сказовые орнаменты. Иные синтаксические и словесные арабески точно отражали то сложносплетённое время. Дивясь стилистическому искусству авторов, ты, тем не менее, ясно понимаешь, что это – именно искусство: мастерство нарочитое, умышленное. Трудно себе представить, чтобы Андрей Платонов в жизни изъяснялся «бумажным» своим языком.
А Гайдар сохранял ту же интонацию и в письмах к детям. И о том, что входит в детскую ойкумену: «Горы здесь такие высокие, что даже кошка через них не перепрыгнет. Вот здесь какие горы!», «Видели мы… немало всяких чудес. Видели мы дерево толщиной чуть ли не с нашу комнату; видели мы камни вышиной с наш дом; видели мы рыбину длиной с наш коридор; …видели хитрую лисичку, доброго ёжика и злющую змею, которая ползёт под кустами, и все её, проклятую, боятся, лишь один ёжик нисколько не боится и даже может ей так наподдать, что она сразу сдохнет». И о том, что находится на дальнем краю детского окоёма, но о существовании этой тайны стоит догадываться сызмала: «На вершине скалы я сидел один и плакал о потерянной молодости ровно один час и 24 минуты. Вероятно, поплакал бы и больше, если бы снизу от костров не донёсся запах чего-то жареного, и мне захотелось поесть».
Не важно, придумал Гайдар эту интонацию нарочно или нет. Важно, что она не осталась понарошечной. А стала его голосом.
Когда Гайдар перестал приноравливаться к «правильному» дыханию других, - тогда и стал ВЕЛИКИМ писателем. Одним из очень немногих в СССР. Да уж не единственным ли…
Спустя годы издевательства «крапивного семени» будут забыты, и Гайдара объявят безусловно «советским»: конструктором тогдашней идеологии и её служителем.
Выстругивание кумиров, поклонение им и последующее низвержение с попиранием – извечная русская болезнь. Завелось такое ремесло: низвергать и попирать. И общество, жадно потребляя плоды этих трудов, оплачивает их.
Участие в жестокостях Гражданской войны объявят главной виной Гайдара. Это могли сделать только люди, которые не примеряли самих себя к ситуации выбора, неизбежной во время междуусобицы. Впрочем, оглашённые жестокости Гайдара не случайно выглядят легендарными – как всё придуманное. Истинность клеветы пытаются доказать тем, что писатель пил горькую. Учитывая количество пьющих её на Руси, следует предположить, что она населена одними палачами. Ну, и доносчиками.
Зато доносов Гайдар не писал никогда. Здравиц вождям – тоже. Тем не менее, святым он не был.
Среди больших писателей святых не сыщешь, как и среди обывателей. Жизнь Гайдара тоже была соткана из «неправильностей». Ну, вы-то, конечно, знаете – как правильно.
 «Голубую чашку» в 36-м многие сочли неправильным произведением: не детским и не взрослым, примитивным и скучным.
«Голубую чашку» в 36-м многие сочли неправильным произведением: не детским и не взрослым, примитивным и скучным.
Не помню, чтобы мне было скучно. Впервые у меня кружилась голова - будто от высоты.
Я слышал, видел и чувствовал даже больше, чем могли, казалось, рассказать мне слова – я, уже знавший Тургенева, но обязательно пропускавший, как и вы, его пейзажные полотна.
Поляна Гайдара была желта, как и пряники из походной сумки, и откуда-то наносило запах скошенной травы и цветущей липы. Шмель, вязко жужжа, отягощал собою цветок. Скользок был коленкор огурцов, брошенных путникам старою бабкою, и прохладны твёрдые ягоды малины на ладони, обожжённой о крапиву. Мелко размолотая колёсами и копытами пыль просёлка щекотала щёки. После долгого пути обещали отдых берёзовая роща на горе, будто светящаяся сама собою, и под горою река.
Глядя на реку, я видел прозрачную глубину, волнистый песок, тени на песке, отставшие от слишком быстрых мальков, ещё прозрачных, как вода, и пытался стряхнуть с ресниц цепкую солнечную паутину.
Не всё это было описано – но обо всём этом говорили мне слова. Они были не сладки и не горьки – совсем простые слова, подобные чистой воде речной отмели. Уже утолив жажду, хочешь пить ещё и ещё – только чтобы чувствовать на своём лице её свежее дыхание.
Ребёнок я был городской. Городские - они уже знают про соловьиные трели, ещё ни разу не слышав их.
Я не столько вспоминал, сколько предощущал то, что со мною ещё только стрясётся.
Но походная сумка у меня была. Полевая сумка, пахнущая кавалерией. Кожаная сумка, оставленная мне в наследство отцом.
Расстёгивая и застёгивая её снова на латунную, уже зеленеющую пипочку, чтобы проверить, сколько яблок и сухарей туда поместится, я чувствовал безотчётную тревогу: «забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце». Нет, я знал, что солнце вырвется, что когда-нибудь я сложу в старую полевую сумку то, без чего в пути никак нельзя, и что какая-нибудь Маруся, о которой мне пока и думать-то рано, простит меня, стоя в красном платье на вечернем крыльце, как прощу её и я - за что-нибудь и за всё… Но тревога не покидала меня.
 Военная тайна – взрослая тайна – детского рассказа: ревность героя, упорно таскающего с собой полевую сумку на память о бодром и молодцеватом прошлом, - к бодрому и молодцеватому лётчику.
Военная тайна – взрослая тайна – детского рассказа: ревность героя, упорно таскающего с собой полевую сумку на память о бодром и молодцеватом прошлом, - к бодрому и молодцеватому лётчику.
(За пять лет до «Голубой чашки» от Гайдара ушла мать его сына, но маленькому читателю об этом знать не обязательно. Да и большому – необязательно. Достаточно ощутить силу мужского разочарования, причины которого могут быть разными).
Наши женщины на качелях в саду: весёленький ситчик вьётся по ветру и вот-вот откроет прохладные шелка, и смех взмывает и пикирует, как качели, как самолёт; наши фарфоровые женщины, пронизанные солнцем.
Нет, мы не разбивали голубую чашку – это бодрые и молодцеватые разбивают наши нежные чашки, через фарфор которых солнце легко просачивается, как через полуприкрытые веки.
А может, и не они вовсе.
Просто время уходит – сочится, как солнце, - и наши старые гимнастёрки отставных молодцев выцветают, к латунным пипочкам полевых сумок и портупей липнет музейная прозелень, а новых нам уже не выдадут.
Мы ревнуем не женщин своих, а время своё.
Нам кажется, будто к ним время относится иначе: милосердней.
В детстве, читая повесть «Судьба барабанщика», я, как полагается, не верил подозрительному «дяде» главного героя, моего тёзки. Тем более – «старику Якову», спутнику странного «дяди». Трескучие речи «дяди» внушали подозрение: «Знакомься, Сергей! Это друг моей молодости! Учёный. Старый партизан-чапаевец. Политкаторжанин. Много в жизни пострадал. Но, как видишь, орёл!.. Коршун!.. Экие глаза! Экие острые, проницательные глаза! Огонь! Фонари! Прожекторы...». Ну да, политкаторжанин и партизан… Пара проходимцев, конечно - даром, что ли, они так усиленно конспирируют, - думал я тогда.
Выросши, я понял, что старик Яков взаправду мог быть каторжанином, и шрам на его лысой макушке мог быть памятью о сабельном ударе в Гражданскую, и сабля та могла быть не красноармейской, а белогвардейской. Да если и красноармейской, то что? К концу тридцатых годов, когда писалась повесть, пути старых революционеров разошлись не раз. Мог «орёл» оказаться и эсером, и меньшевиком, и даже большевиком, но при этом троцкистом – и вполне мог продолжать борьбу теперь уже против бывших своих товарищей, против победителей. Ещё неизвестно, кому следовало в этой борьбе сочувствовать.
Ещё одна взрослая тайна, однако.
 Мы, серёги-барабанщики, дознались до неё много позже. Победители же могли сразу догадаться. Получив донос, они с удовольствием рассыпали набор «Барабанщика», а заодно и других книг Гайдара.
Мы, серёги-барабанщики, дознались до неё много позже. Победители же могли сразу догадаться. Получив донос, они с удовольствием рассыпали набор «Барабанщика», а заодно и других книг Гайдара.
«Вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.
Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.
- Это знакомый чиж, - твёрдо решила Светлана. - Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала».
Гайдара и самого высоко качало: из славы в опалу и обратно.
Между прочим, «Голубую чашку» издали при его жизни лишь однажды. Милая девушка Надюша, превратившаяся в пучеглазую инквизиторшу Крупскую, запретила рассказ. Скучное в советское время не запрещали. Запрещали, как правило, то, в чём шкурой чуяли пугающую степень величия.
Запретный Гайдар не улетал, а продолжал петь: он был чиж смелый и упрямый.
Из «Голубой чашки»: «Нашла вчера соседская девчонка три хороших белых гриба. Жаль только, что все они были червивые».
Всякому знакомо чувство, с которым видишь – уже за несколько шагов – эти безупречные произведения природной архитектуры. Хорошие, но червивые – так скажет ребёнок, в котором нет хищного азарта, а есть азарт открывателя. Или художник, который может оценить прелесть бесполезного. Форма не в ответе за содержание. Особенно если лето стоит жаркое, грозовое.
Советское «жить стало хорошо» – это резолюция, заклинание и приказ. «А жизнь, товарищи… была совсем хорошая!» - так закончил свой рассказ Гайдар. И ты зависаешь одной ногой над неожиданной трещиной многоточия, как над таинственной «чёрной ямой», в которой девочка Светланка увидела Страшилу.
«Жаль только, что все они были червивые».
В жизни всегда найдётся Страшила, любитель разбивать голубые чашки. Особенно в России, где защитный цвет всегда в ходу и где среди мирного дня с дубов часто сыплются не спелые жёлуди, а корректировщики огня; на нашей Родине, привыкшей жить от войны до войны, от беды до беды и верить, что хорошая жизнь – не столько будет, сколько уже «была».
 Тюбетейка, цветастый ситчик и округлый шёлк, по которому так прохладно скользить руке, и велосипед, подпрыгивающий на сосновых корнях, и патефон вдалеке, и флюгера на дачах, и пыльная рожь вдоль леса, и чадный танковый гон вдоль ржи - когда Никита Михалков снял «Утомлённые солнцем», в его оскароносном фильме сразу почудился гайдаровский голос.
Тюбетейка, цветастый ситчик и округлый шёлк, по которому так прохладно скользить руке, и велосипед, подпрыгивающий на сосновых корнях, и патефон вдалеке, и флюгера на дачах, и пыльная рожь вдоль леса, и чадный танковый гон вдоль ржи - когда Никита Михалков снял «Утомлённые солнцем», в его оскароносном фильме сразу почудился гайдаровский голос.
Девочка Светлана точно годилась бы в бабушки девочке Наде Михалковой.
В доме героя Гражданской войны пьют чай на веранде. Чашки не голубые, но тончайшего фарфора. А чашки-то – чужие. Чужой фамильный сервиз (и уже неполный), захваченный победителем - вместе с женщиной и домом, вместе с миром тех, кто был бы хозяином жизни, кабы не победа победителя.
Жизнь была хорошая, вот только чай бодрые и молодцеватые пили из чужих чашек. Доживали жизнь, не дожитую слабыми.
Думал - показалось. А потом узнал, что Михалков признавался актёру Золотухину в любви к «Голубой чашке», сравнивая её с бунинским «Солнечным ударом».
Михалков прочитал и ненаписанное. А если и непрочитанное прочесть, узнаешь, как потом придут другие победители, и разобьют ещё чашку-другую, а остальные, замыв кровь, снесут в магазин конфискатов (были такие: изъятое у «врагов народа» продавали тем, кто - пока – «врагом народа» не признан, и вещи могли возвращаться на прилавок снова и снова), и кто-то их купит – купит себе предысторию, которой лишён.
В чужих домах с типовою древесно-стружечной мебелью я иногда со страхом осматривал случайные блёстки антиквариата на полочках, будто пытаясь по трещинам и сколам прочесть: наследственное это – или из конфискованного? Из чёрной Страшилиной ямы?
Плохо мы оборудовали Родину для сохранения голубых чашек.
Я читал этот рассказ – 13 книжных листиков – уже раз сорок пять. По нему, как по годовым кольцам, можно измерять мой возраст.
Вряд ли Гайдар сам понимал, что написал. Иначе после «Голубой чашки» не стал бы писать ничего: сочинить две великих книги – задача почти непосильная.
Поручи Бог написать «Чашку» мне – наверное, поставив точку, я бы умер. И чёрт с ним – с собранием сочинений.