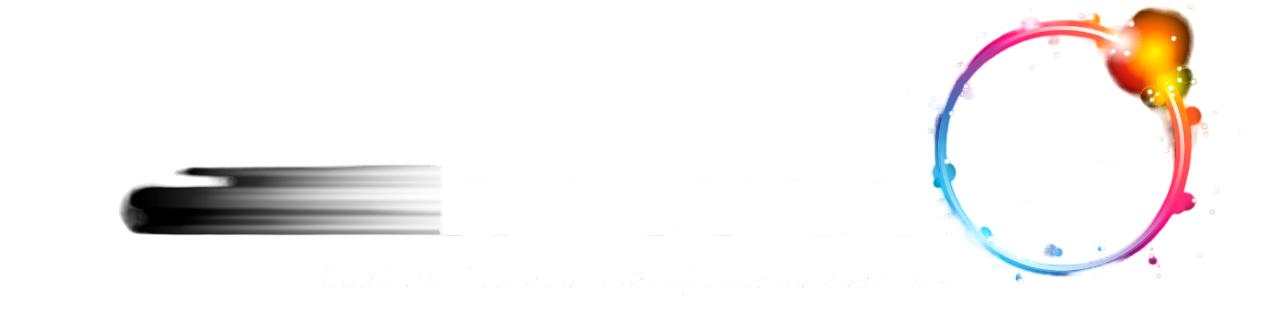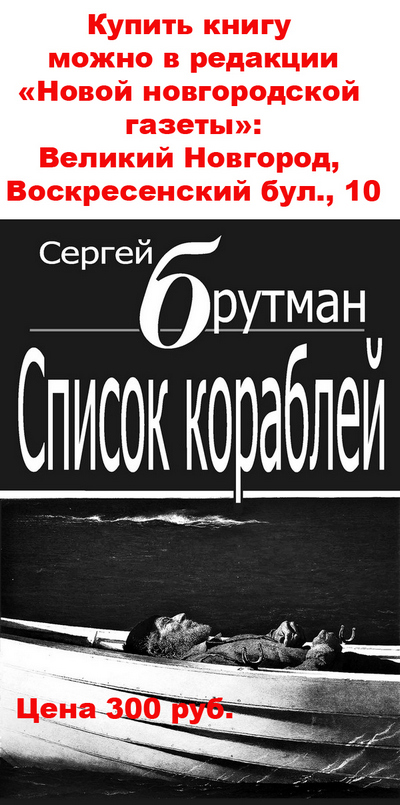Мних недостойный

«...и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: «ты мой народ» (Ос.2:23).
На улице сытый конский топ глушил голодное клацанье берданок. Во дворе выл ополоумевший кобель. За стеной гимназист Иннокентий басом орал на няньку.
Этот мир был сух, хмур, груб, и Мишенька Вонифатьев не спешил расстаться со своей влажной, своей розовой Вселенной. Он рождался неохотно, измучил маменьку, обессилел сам, и на бодрящий повитухин шлепок отозвался лишь жалобным попискиванием. Поднося новорождённого к мамаше, повитуха умело улыбнулась. Но m-me Вонифатьева смотрела на сына - синенького, в морщинах и складках - и, ощущая пустоту в сердце и грудях, понимала: всё, жизнь - к концу.
Роженицу выпоили куриным бульоном, пискуна - дворничихиным густым молоком, и жизнь продолжилась. Маменька помнила своё нечаянное, минутное равнодушие к младшенькому, к последышку, и любовь её стала исступлённой - влажной, розовой, тягучей. Но ничто не могло вернуть ему утраченной Вселенной, примирить с сухим и шершавым миром. Несмотря на старания дворничихи, Мишенька так и не вышел в справные. Всем, даже Иннокентию, ясно было, что тот, кто так ненавидит людные скверы, карусели, новогодние хороводы, ярманки, - не сгодится ни в авиаторы, ни в предводители команчей, ничего не украдёт и не построит, не разживётся на откупах и Георгия не выслужит. Папеньку одно утешало: если не в помидорных щеках Иннокентия, так хотя бы в бледности и носатости младшенького наконец явил себя весьма лестный для всякого порядочного европейца и либерала, но до сих пор остававшийся мифическим, предок - не то португалец, не то итальянец Бонифацио, от учителей-иезуитов утёкший и в русские переписавшийся.
К Мишуткиному узкому личику - рясоньку бы да скуфеечку, и нахохлился бы чёрным птахом над книжкою.
Мишенька, завтракать! Мишенька, ау-у! Вы Мишеньку не видели? Между диваном и креслом забился? За книжный шкаф затиснулся, где в паутине - шелуха от мух? Вот и неправда ваша - там только костюмчик матросский да нелепое тельце, только шелуха, обёртка, а сам Мишенька - далече: унесло его тёплым и пыльным книжным ветром, несёт его над землями и веками, чёрные полы завиваются. Купер, Толстой и Диккенс, Гюго, и Куприн, и Чехов - сотни миров, в которых можно быть кем хошь - без опаски оказаться затоптанным лошадьми, затрёпанным женщинами, засмеянным мальчишками; сотни миров, которые можно открыть и можно закрыть.
Мишенька, голубчик, вставай! Мишенька, калачик маслицем намазать? Да оставь ты книжку - опоздаешь! Фуражка съезжает на ухо, подбородок до красноты, до сыпи натёрт суконным воротом, из истории - пять, из греческого - пять, из закона Божия - пять. Боже, Боже, где я, что за тени вокруг? Зачем та, на углу, шуршит юбками, вспенивает их над коленом, зачем подмигивает, куда зовёт? зачем тот, громыхая шашкой, бьёт картузника в зубы? зачем лошади, зачем в их вздрагивающих животах - грядущий ужас живодёрки? зачем собаки, их слюнявые улыбки? П-п-п-рочь! Ничего этого нет - только тени, зыбкие тени. У мальчика слабое зрение, купите мальчику очки! Мишенька, примерь... Две круглые ледышки, оправленные в железо. Эй, очкарик! Железо больно жмёт переносицу. Стёкла запотевают. Грек поставил тройку и гневался, подобно пелееву сыну. Грек думал, что существует, но грека не было. Была зыбкая фигурка - сквозь воды, сквозь льды.
Иннокентий завёл портсигар. Мышкин обнимался с Рогожиным. Папенька попали в бешеную февральскую толпу, с толпой вместе пели и проклинали, бросали в воздух шапку, и обронили её, и простыли. Оливер Твист был вознаграждён за страданья. Грек влепил единицу. Папенька кашляли. Каренина бросилась под поезд, Гуинплен смеялся. Папенька пожелали, чтобы хоронили их при красном банте в петлице. Иннокентий женился на Леонтине. Пришли Рюрик, Трувор и Синеус: земля наша велика и обильна... Пришли матросы. Гимназии больше не было, была школа, и из фуражки выломали герб. Вонифатьевых уплотнили. Водопровод замёрз. Иннокентий отпустил усы. Он приносил паёк: инженеры нужны всякой власти. Святой Невский угодничал на Востоке и геройствовал на Западе. Маменька зябли. Ребя, Вонифатьев-то - буржуй! Феодор молился за врагов своих. Иннокентий получил повышение. Зыбкие тени стояли в очереди за керосином. Не лепо ли ны бяшет, братие? Маменька не проснулись к завтраку. Маменька не проснулись...
- Слушай, брат, - насупясь, сказал после поминок Иннокентий.
- Мон дье, ты же знаешь - Мишель у нас такой, такой... - Леонтина сделала круглые глаза.
- Знаю. Не перебивай, - сказал Иннокентии. Он важничал. - Брат! Мы теперь одни, и я... и мы с Леонтиной... В общем, ты должен учиться дальше. Что ты теперь читаешь? А, тебе интересна история?! Ты - человек науки! Чистая наука - она примет тебя. Брат, ни о чем не думай. Иннокентий Вонифатьев - спец. Он нужен сегодня, а завтра - ещё больше. Ему дадут белки, жиры - и углеводы тоже. Он прокормит свою семью. Леонтина! Ты не видишь - у Мишеньки несвежая сорочка? Распорядись - пусть выстирают, накрахмалят, отгладят.
Иннокентий был немного нетрезв, но полон благородства. Леонтина разрыдалась от гордости за него и нежности к Мишелю: Бог долго не давал ей деток.
Профессора неуверенно - гимназическими голосами - толковали о классовой сущности Аристотеля. Первокурсник в кавалерийских, подшитых кожею галифе, митинговал: «Товарищи! Контра не спит! Контра подсавывает нам Рюрика, Синеуса и Трувора! Это что ж, интервенты государство русское заложили? Не было Рюрика, товарищи!» Комсомольцы хлопали в ладоши. Мишенька смотрел сквозь них взором беглого португальца, ещё не решившего, здесь ли остаться, в Китай ли двинуть.
Вонифатъев, ты уже читал? На газете - жирное пятно, с газетных сгибов осыпаются серая соль и рыбья чешуя. Вонифатьев, а ты почему не в Союзе? Оставь его, он не от мира сего.
Я - от мира сего - бегу. Тёплый нездешний ветер, нагруженный перхотью с телячьих пергаменов, уносит меня прочь. Охрани, Клио, моё хрупкое, моё бренное - от собак, лошадей, человеков, от боли и от муки охрани, а уж моё бессмертное, моё летучее само себя убережёт. Спасибо, Клио, спасибо, милосердная муза, тайная игуменья мужской обители: история ещё дальше от этих улиц, чем беллетристика, и Рюрик равнодушно взирает через щели своей кованой личины на кавалериста с блестящим кожаным задом. История - это совсем не больно.
Ещё покойны были пухлы, в перетяжках, ляжки любительской колбасы, бесстыдно танцевавшие в витринах, но уже слышался спелый, тяжкий хруст материковых пород под ногами: Гондвана дробилась на острова, мамонты и лавочники толпились на берегах неожиданных проливов, из трещин поднималась магма, пахло серой. Вы бесспорно талантливы, но нельзя так разбрасываться. Что вам ближе - Россия, Греция, Китай? Какая разница, профессор? Лишь бы меньше ходить этими улицами - там лошади, там грузовики... и мальчишки, профессор, мальчишки! От сотворения мира шёл год семь тысяч наивный, когда он нырнул в отечественные потёмки, в пятнадцатый век.
- Брат! - сказал Иннокентии. - Я знал: чистая наука примет тебя.
Иннокентий растроганно хлюпал носом. Он стал толст и сонлив.
В папенькином кабинете (им вернули кабинет) он ложился в расстёгнутом френче на кожаный диван и слушал, как в гостиной (им вернули гостиную) Леонтина рассеянно берёт на рояле аккорд за аккордом.
Длинноногий наркоматовец дышал Леонтине в плечо. Леонтина тихо смеялась. Иннокентий отлеплял себя от диванной кожи, чтобы перевалиться лицом к стене: гость пользовался доверием наркома. Длинноногий начинал страстно сопеть - и испуганно затихал, когда Мишенька переворачивал гулкий мелованный лист. Любимец наркома не знал, что и он, и она для Мишеньки - лишь зыбкие тени. «Ну, что вы, - шептала Леонтина, трогая клавиши невпопад. - Это же - Мишель...»
Вонифатьев сохранил младенческую дальнозоркость. Раскрыв книгу, он долго отодвигал и приближал её, отыскивая правильную дистанцию. Потом замирал, как богомол на суку. Только правая рука - жила: переворачивала страницы, делала выписки на бумажных осьмушках. Ну что вы, глупый, это же Мишель! Рясоньку ему да скуфеечку - нахохлился бы чёрным птахом, иноком смиренным. Вы Мишеньку не видели? Мишенька, ау-у! Грибная прель, русская чащоба, заломы, завалы, порубежье далёких веков.
Проскакали, умчались во тьму всадники с метлой да пёсьей башкой у седла, ночной конский топ потонул в сафьянном шарканье по выметенным полам. И слали из-за моря дары. Что за чудо клавикорды аглицкие, в золоте и финифти - коснуться боязно: до-соль-си - рассеянный, невпопад аккорд. Сторони-и-ись! Едет к послу на дом боярин в парче, за ним - двое со скатертями, двое с солонками, двое с уксусницами, двое с ножами и ложками, трижды по двое - с хлебом, далее - с водкой, с винами византийскими, далее - холодное, затем - варёное, жареное, пирожное, затем - меды, чаши, прислуге угощенье. Стрельцы в красных кафтанах - будто давленая брусница на снегу. Государь наш всероссийской земле облегчение, и радость, и веселие показал; гляди, фрязин: жить стало лутче, жить стало веселей, овцам - сенцо, волкам - слёзки. Пей, ярыги, пляши: царь кабак построил. Он нам и мост зубчатый перекинет через реку, он нам и колокол невиданный отольёт. Он нам на Красной на площади место каменное возведёт... место лобное.
- Мишель, вам же темно!
Мишенька сворачивается уютным калачиком под стёганым одеялом. Он спит спокойно. Иногда, раз в два-три месяца, ему снится юношеский сон: в комнату, где он когда-то был рождён, входит женщина с лицом незапоминающимся, с голосом Леонтины; тёплая рука скользит по Мишенькиному лицу, по зябкому животу, и сладкая судорога сотрясает тело - дурной сон истекает из него, опустошая, утишая.
«Погубили, погубили надёжу нашу!» - голосит на гулкой лестнице дворничиха, раскиселенная годами, пологрудая, высосанная своими и чужими младенцами.
Дитя, в седьмом браке рождённое, бьётся, вытягивается на заморском ковре: зубки, зубки разожмите сыну Иоанна! Мокрый снег над Угличем. Два комбедчика поддевают фомкой, разжимают челюсти замшелой раки, крошат известняк - бабы отворачиваются, крестятся на лысые, без крестов, купола.
Мишенька вздрогнул, поднял голову: Иннокентий, облачаясь к службе, заглядывал через плечо брата в книжку, в ворох бумажных осьмушек. «Слушай, - сказал Иннокентий, смущаясь. - Я чего хотел... Борис - он что, убил-таки отрока? Или нет?» Что тебе Клио, сытый инженер? И что ты ей? «Мишенька, а может, и убил? - липким потом прошибло Иннокентия. - Может, и было за что?»
Царевич от чёрной болезни восстал! мамки, зовите мальцов - лепить снежных болванов. Дянки сырые - за пояс. Снежные болваны таращат глаза-уголья. Имениты все: царевич боярским именем каждого нарёк. И, нарёкши, деревянный мечик подъял: покатились болваньи головы. Кошка через двор прошла, лапками подрагивая, снег отряхая - гла-а-адкая, как Борис. Гони её, лови её, вдарь ей! Играй, дитятко глумливое... Джером, друг, отвори ворота: Димитрий зарезан! Отвори, Горсей: у царицы ногти повылезли, волос опал, кожа лупится - дай лекарство, инородец, мать твою!
«Погубили, погубили!» - голосили на лестнице, на лестницах.
Смольный в трауре. В пытошных не протолкнуться. «Убил, убил!» - верещит тиун, болтаясь на дыбе. Ведаю, ведаю государево дело на Богдана на Бельсково: знает он обтекарское дело, знает, чем человека испортить, и для того Богдану у государя блиско быти нельзя. Вот он, мешок с корешками, дивен вид тех чёртовых корешков - будто человечки враскоряк. Подступали к Никитичам, аки зверие пыхаху и кричаху: а не тем ли ведовством и кореньем напустили вы хлад и глад? Лето было слякотное, холодное, с утренниками, и на Семён день ударили морозы, пали снега на Углич и на Россию, пылали костры на полях - мужики разгребали сугробы, искали колосья: дотянуть до весны, а уж весной!.. А уж весной - после тепла - снова морозным резаком по самому цвету. Бояры, всё бояры: ихая крамола! Государь отворил житницы, тянулись в города обозы - мимо путников, что остывали на обочинах, мимо молчаливых деревень. В городах ладили новые палаты, и Москва хорошела, живым хлебцы раздавали, мёртвым - саван да коты, а то и красные башмаки за государев счёт, и навстречу обозам поскрипывали государевы дроги, прогибаясь под смертным грузом. Хорошела Москва, вся в кумачовых хоругвях, к ползли к ней колхозные людишки - по просёлку, по пашне, по грязи. Маршировали физкультурники. Жить было лучше, жить было веселей. Физкультурники карабкались друг на друга, строили шаткую пирамиду - ажурную, как радиобашня, - и по ажуру, по ступеням коленок и плеч, поднимали на верхотуру девчушку в сатиновых, парусящих на ветру трусах, и ещё выше - над пирамидой, над девчушкой, над шестой частью Земли - вздымался лик Спасителя.
Сел год семь тысяч безумный. Ели конину, и псы, и кошки, и нечистоту всякую, но царскою милостынею ещё держахуся, убогии. Посреди дороги плакало в пыли брошенное дитё, на него смотрели жадно, но обходили, уходили от греха. Но оборачивались. Но уходили, стыдясь встречных. От спорынного хлеба мучились животом, и взгляд делался волчьи горяч и колок, и выли люди, тянулись друг к другу крючьями окогтевших пальцев, и две девицы, две песельницы, схоронясь от чужих глаз, варили в чугуне соседскую дочечку. А у тех песельниц щёки подёрнуло мужской щетиной и волосатые груди болтались под рубахами.
- Мишель, ужинать!
И Мишенька отсутствующе сжевал котлетку, даже не расчувствовав, что за диво на тарелке - диво упругое, соком брызжущее, дышащее пышными боками...
У голодающего - дыхание всё реже, всё мельче, ещё реже, ещё мельче... вздохнул и умолк. Келарь Авраамий, бродя меж бездыханными, шевелит губами. Келарь, а келарь - сколь насчитал? Келарь, а присчитал ли прынца - или как его... херцога? - он женихаться приехал из тридевятого царства, да на русском пиру объелся-опился - и помер, государя опечалил. А счёл ли тех, кого разбои жизни решили? А разбоев, коих всякими смертьми кончили? А коих из пытошных за ноги волокут - оговорных людей? Муж от жены отрекался, сестра брата выдавала, сын лгал на отца, а сирота - на весь свет лгал, и умножашася неправды. «Разобьём им головы!» - требовали кумачовые транспаранты. Выше, выше лик Спасителя! Всадники возвращаются из тьма, нагоняют. Князюшка, не жарко ль тебе? Вон как гончие избу тебе натопили - пламя меж брёвен пробилось, крышу разворошило. Что, опальный? Что, опалённый? Моли господа за милость царскую - простил, уберёг от вьюжной ссылки, обогрел напослед. Басманов, Бориса пытошный человек, скалит зубы.
Пришли гости, завели патефон, любимец наркома - сам чуть-чуть на наркома похожий - кружит Леонтину. Леонтина тихо смеётся. Бог так и не дал ей материнства. Басманов в Успенском соборе рвёт платье с Иова, патриарх цепляется за панагию - отдавать не хочет. У седла - метла да пёсья башка, имя всадникам - Молчанов с Шерефединовым. Мы-де Иоанну служили верно, мы-де сыну Иоаннову послужим. И - шнурок на шею царице с царевичем: бабе с отроком. Весело Басманову, гришкину пытошному человеку, встретить новую государыню. Весело видеть, как гарцуют всадники, как хлебные - без окошек - фургоны рассыпаются веером по ночному городу.

Гости, гости, габардин и крепдешин - танцуют все! Пьяный, тычется в столы и стулья Иннокентий. Орёт, багровея: «Мишка! Ты, нездешний человек! Ну, выяснил наконец? Кто там у тебя прав? Или - никто? Или - все? Одни святые, да? Все святые на Руси, только честных - нету?»
Любимец наркома поглаживает непривычно оголившуюся, голубую губу - теперь, без усов, он уже ничем не похож на прошлого наркома. Весело было, Басманов, стоять над растревоженной заступами могилой Бориса, над телом его поруганным? А уж волокут и Гришку твово.
Шёл год семь тысяч ночной. У подъезда фыркал копотью невидимый хлебный фургон. Кошка в ужасе взобралась на комод и шипела оттуда. Письма смятённо порхали по квартире, шёлковый чулок, змеино извиваясь, полз через гостиную.
- Значит, так, - мычал Вонифатьев, хватаясь за сердце.
Значит, так: наг Гришка и мёртв, лицо расквашено, и возлежит он на козлах, голова и ноги свисли тряпично, а тебе, Басманов, и не видать: caм ты под теми козлами брошен, бородёнкой в небо целишь, и с неба на тебя хозяйская кровица - кап, кап... Светел ваш одр, выбелен снегом, что пал майской ночью на Москву, на Углич, на Россию, на поля в зелени, на сады в цвету - всё принарядив, все сгубив. Но велика земля наша, велика и обильна, и не обескровела ещё!
- Иннокентии взяли, - сказала Леонтина.
- Куда взяли?
Леонтина по-вдовьи повязалась платком. Она шла с узелком по разбитым дорогам, и всадники теснили её к стенам домов, и пионеры с барабанами отсекали ей путь. Леонтина стояла в молчаливой серой очереди - не за керосином, но за надеждой. «Вы - последняя?» - спросили у Леонтины. «Нет», - ответила она. «Но ведь вы - последняя», - убеждали её. «Нет, не последняя», - знала она. Люди думали, что она не в себе. Но Леонтина была разумна, как никогда.
Она научилась обходиться без прислуги, торговаться с татарами-старьёвщиками и ждать. Бывший любимец бывшего наркома стал любимцем нынешнего наркома и больше не приходил слушать ленивые аккорды.
Земля наша велика и обильна и не оскудела она властолюбивыми рабами, вдохновенными мучителями, пугливыми гонителями, глумливыми детишками и просто самозванцами. Татей у нас топчут, ворам же - кланяются. Над Тушино парадно ревели моторы. Тушинский вор, весь в белом, улыбался в усы. Он благоухал византийскими винами, турецким табаком и жареной ягнятиной. Над бойнями кружилось железное воронье. Шли годы грудастых физкультурниц. Клио, Клио - ты видишь, как мучится моё бессмертное, моё летучее? Но моё хрупкое, моё бренное ещё убереглось: я сыт, и стопа чистой бумаги всегда лежит на столе справа, и чернильница не пересыхает.
Шёл год семь тысяч кровавый. У безнадёжно захлопнутого оконца кричала Леонтина, задерживая молчаливую очередь. Санитары били её по нерожавшему животу и толкали в фургон: рыдания Леонтины были государственным преступлением, изменой родине. Инок одичало бродил по квартире и грыз сухие грибы. Снова набежали татары - пешие и безоружные. Не раскидывая шатров, они быстро перепахали распаханные обысками шкафы и вынесли ту мебель, что прочней. Вонифатьев узнал, как выглядят деньги, но привыкнуть к ним не успел: старьёвщики обманули его.
Квартиру опечатали. Добрый управдом доверил Вонифатьеву мётлы, скребки и лопаты и пустил его в дворницкую, откуда некогда поднималась в третий этаж женщина, чтобы выкармливать Мишеньку грудью. В негнущемся фартуке поверх долгополого пальто Вонифатьев стоял у ворот, и прохожие, поравнявшись с ним, умолкали и прибавляли шагу: дворник - вестник беды, ночной понятой. Расхристанной метлой инок расточал намытое сентябрём золото, фанерной лопатой грёб крупитчатое серебро декабря и скалывал январские зеркала ржавой железкой. К вечеру пальцы не разгибались - он не мог писать и, сняв фартук, шёл через двор к даме, жившей плодами стенографии и машинописи.
У дамы было слишком много молодых конкуренток, и лишь однажды её пригласили к настоящему писателю. Пока она снимала шубку, румяный писатель объяснял условия работы. Доносившийся с кухни запах обеда из трёх блюд ободрял. Она чувствовала себя Нюточкой Сниткиной, призванной в храм Святой Литературы. Будничный химический карандашик трепетал в ожидании откровений духа. Её румяный Достоевский - совесть России - диктовал о грязных свиньях, кровавых обезьянах, смердящих псах, подлых наймитах, гнидах этцетера. Выстарившаяся институтка записывала и краснела до слёз. Потом она чинно отпивала чай, мелко кусала эклер, умело вела светскую беседу - и думала об обеде, которым её, увы, не унизили. Нищая, она по дороге комкала в кармане писательские рубли, высматривая побирушек. Но паперти пустовали: под лысыми куполами храмов давно хранили репу.
- Извольте, - презрительно бросила она Вонифатьеву.
Вошфатьев, заикаясь, бормотал о том, как народная совесть, уже притерпелая к простому мучительству, ищет особых грехов в государе: брадобритие хвалил, с врачами якшался, иноверов приваживал, - ищет, чтобы разлюбить задним числом, когда уже разбиты винные подвалы и вотчинные хоромины - не мести ради, а токмо из безудержу рабьего; о страшном веществе рабьей с-с-совести, нашёптывающей: а ну как убережёмся, коли смолчим? Глухое молчание - не одобрение и не вызов. Мы смолчим, пусть провидоши, юроды, калики кричат за нас, пусть косноязычат, облегчая нашу немоту, никто не поймёт, а поймёт - так им, дуракам, недолго в дорогу сбираться: корочек, озубков в котомку побросал - и готов. Он бормотал о подвиге келаря Палицына - ибо на Руси правда всегда есть т-т-тяж-кии подвиг. Аз, мних недостойный, говорю вам: виной беззакониям - молчание моё, твоё и наше, безумное молчание всего мiра. И не вне нас смута - но в нас самих. Бордлеевы скорописные крючки бешено скакали по листкам - преступный шифр, корявая кардиограмма надсаженного сердца. «Скажите, - отважилась стенографистка, - а это правда, что Борис Феодорович - младенца...» Что тебе Клио, напудренная женщина? И что ты ей? «Он мог, - сказал Воннфатьев. - Мог он. Вполне».

Вручая дворнику отремингтоненную рукопись, институтка подняла руку для благословения - к задержалась, вглядываясь в его бледное лицо и смолёный волос.
- Да вы, может, иного вероисповедания?
Вонифатьев не знал, что сказать.
- Ах, что я! - застеснялась институтка и перекрестила португальца.
Профессор шипел, как кошка на шкафу:
- Шшшто вы, шшто вы? Вы не понимаете - что вы написали?
- А Авраамий? - спросил Бонифатьев.
- Авраамий ваш - церковник, что он понимал? Недаром же государи заказали новую версию событии... У нас теперь новый взгляд на прошлое. Надо больше читать, коллега - читать современных авторов .
- А Авраамий?
Профессор отталкивал рукопись в газетной обёртке. Газетка была свежая, пачкалась краской.
- Заберите это, прошшшу вас, заберите! Коллега, тираны проходят - наука остаётся. Она должна переждать, чтобы уцелеть.
Самому профессору сил не хватало переждать. Из прихожей Вонифатьев слышал, как хозяин второпях брякает телефонной трубкой. Телефонистка воткнула в гнездо опросный штепсель, выслушала заказ, не глядя воткнула второй штепсель в хорошо знакомое ей гнездо, повернула ключ: контакты замкнулись, сигнал рванулся в латунный лаз, в медный туннель, толкнул, разбудил мембрану... и, вдавленное сапогом в бумажный ворох, хрупнуло стёклышко вонифатьевских очков.
Отъехала, громыхая, тяжёлая дверь. Пурга ворвалась в нечистое тепло скотьих вагонов. Качнула паутину, зашуршала шелухой измученных тел. Люди посыпались из разверзшихся дверей, покатились по обледенелому склону туда, где под ногами хлябала гнилая, проболоченная земля. Они жались друг к другу, по команде опускались на колени и замирали, чтобы пастыри не сбились со счёта. Ягнят было с тысячу, а овчаров - совсем немного. Но овчары были спокойны и сдерживали своих стервенеющих псов.
Коленопреклонённые - пеньками чернели в болоте. Среди этой вырубки стоял - во весь свои невеликий рост - лишь один , в долгополом, вроде рясы, пальто.
Младенчески дальнозоркий, он смотрел на мир сквозь расколотое стёклышко, и взгляд его казался удивлённым - взгляд мимоезжего португальца. Пастыри обступили его.
- Ну, и чего ты тут такого увидал? - спросил самый юный.
Дурачась, он снял с португальца очки и примерил. Перед ним предстал раздвоенный, сдвинутый, странный мир. Пастырь испуганно отшатнулся и уронил ненужный ему станочек, туманящий зрение.
- Подыми, - разрешил он.
Но очкарик не нагнулся. Он и так видел: снегом заметало Углич. Снежная пелена опускалась на Россию, исхлёёстанную дорогами. В белой мгле брели с юга на север и с запада на восток угличане: гороховые пальто и голубые мундиры, габардин и крепдешин, кирза и лыко, святые и пустосвяты, богомольцы и богохульники, маменькины сынки, юроды, провидоши, обритые боляре, отставные палачи, безграмотные летописцы, голодные хлебопашцы, стрельцы и португальцы, сопливые мальцы и невенчанные матери, босые сапожники, чернокнижные расстриги, дворничихи, неловкие богомазы, валдайские девки, иноки и скоморохи... виновные, но не знающие за собой вины, и сердце сжималось от любви и стыда.
- Стройсь!.. ойсь!.. ойсь!
Зашевелилось болото.
- Эй, ты-то чего - уху ел? - послышалось иноку. - Двигай давай.
Его пихнули прикладом. Он шагнул к людям, растворился в людях, затерялся в пурге.
Мишенька, ау-у! Вы Мишеньку не видели?
Сергей БРУТМАН
1988 г.